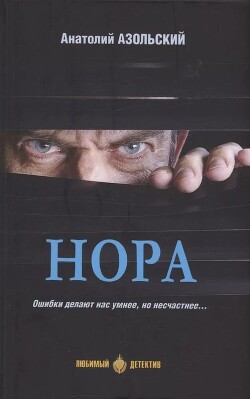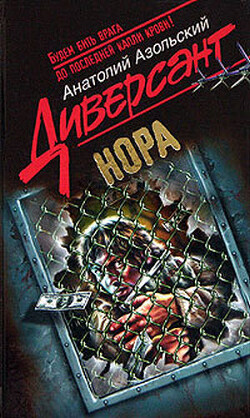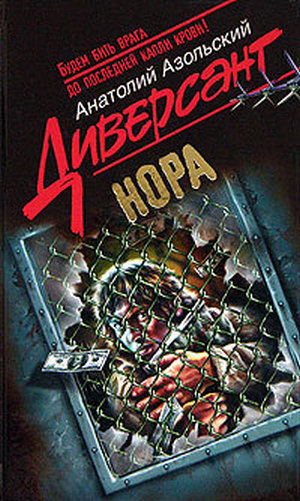и с плачем упала матери в ноги. Гнев той был тихим и выверенным. По описанию дочери она высчитала, какой кабинет занимает вторгшийся в их жизнь начальник, сообразила, что обратное превращение женщины в девушку невозможно и что пора уж ей с дочерью выбираться из барака: в заводском доме освободилась комнатушка. С медицинской справкой побывала она в милиции, но заявления не написала, как ее ни уламывали, и скромной просительницей пришла к насильнику и душегубу, который к утру содрогнулся от собственной мерзости и Люсину мать встретил скорбно, повинился в содеянном, сказал, что и не думает отрицать вину свою, готов признаться и понести заслуженное наказание. Затем — при секретарше — разъяснил некоторые юридические тонкости, потребные для возбуждения уголовного дела. Надо, увещевал он мамашу, поберечь надломленную душу ребенка от дальнейших потрясений, писать заявление в милицию вовсе не обязательно, достаточно звонка в прокуратуру, и если сама гражданка Мишина скромничает, то уж сам он готов немедленно поставить в известность городского прокурора и явиться к нему с повинной. Сказав это, начальник придвинул к матери телефонный аппарат, но та, ошеломленная и онемевшая, выскочила вон из кабинета, распростившись по дороге к бараку с мечтой о комнатенке. Покаянным речам начальника она не поверила, порыдала вместе с дочерью, отхлестала ее, полная надежды, что начальник когда-нибудь да окажется врагом народа и сгинет. Но тот уцелел, он, видимо, и растление несовершеннолетней задумал, все тщательно рассчитав… (…утром в горотделе она сказала, что вчера впервые увидела телевизор, а их в Москве выпущено всего, говорят, две тысячи, начали делать в Ленинграде…) Перед войной три или четыре состава обкома объявлены были вражескими, а начальника уберегла судьба. (Декан встретился здесь, в театре, говорил приветливо, будто не было вчерашней ссоры, и телевизор ему подарили к шестидесятилетию.)
Торжественные заседания в облдрамтеатре нередки, в перерывах руководство чинно посиживало в буфете для избранных, там и прокурор города сейчас, вот-вот допьет бутылку «Жигулевского» или «Бархатного» и уедет, а Гастев все не мог подняться, встать на ослабевшие ноги, продолжая (настаивал, угрожал и любезничал дружище) вспоминать, что делала прыткая пионервожатая Люся тринадцать лет назад и где была Людмила Парфеновна Мишина, второй секретарь горкома ВЛКСМ, 28 августа сего года. С 1936 годом можно повременить, а вот в воскресенье 28-го… что в выходной день происходило? 25 августа в четыре часа дня собирали преподавателей, мусолилось постановление «Об усилении роли общественных наук», без Мишиной не обошлось, конечно, показалась она на этом совещании в темно-синем платье и куда-то укатила около шести вечера. Уж не на этом ли совещании спятила она, сегодня поправ его советы, заговорив с трибуны о семидесятилетии И. В. Сталина? В конспекте, что отрабатывался с нею, ни словечка о юбилее вождя! Кто надоумил ее? Уж не декан ли? У него ли была она вчера вечером? Полтора часа назад он представил Гастева своей дочери, студентке третьего курса филфака: девица на выданье, так сказать, умом не блещет, красотой тоже, но одета очень умело, изысканно-скромно… (… платье-то не покупное, сшито… кем сшито?…)
А Гастев так и не поднялся. Он сидел вытянув длинные ноги и чуть слышно высвистывал опереточную мелодию, рассматривая руки свои… О прокуроре было забыто, потому что замедлилось наслаивание версий, самая невероятная стала зримой, но немой, она еще не устоялась и уже страшила, и спасением были дом, квартира, уединение, коньяк. Гастев поднялся наконец и увидел Ропню.
Милиционер смущенно топтался в нескольких метрах от него, в растерянности перекладывая из руки в руку чем-то набитую обыкновенную наволочку и давая тем повод сомневаться в гостеприимстве сестры крестного и наличии коек в милицейском общежитии, где отказали «харлею-дуралею» в ночлеге, выдав, однако, постельные принадлежности.
Наволочка обосновалась наконец в левой руке, ладонь правой поднеслась к виску.
— Разрешите доложить, товарищ член Штаба?
На балконе уже рассаживались, Гастев поволок Ропню на площадку пожарной лестницы.
— Ну что у тебя?… Да руку опусти, руку!
— Докладываю: при повторном обыске у подозреваемого Синицына обнаружены крупные денежные суммы!
Из наволочки извлеклась коробка и предъявилась Гастеву. Прикасаться к ней тот не собирался.
— Ну и что в ней?
— Сто тысяч рублей облигациями трехпроцентного выигрышного займа!
Коробка была приоткрыта. Четыре пачки, в каждой — на глаз — по двадцать пять тысяч, если это, конечно, не «кукла», но в том-то и дело, что все облигации — подлинные, по Ропне видно, что рукам своим и здесь он волю дал, обслюнявил и пересчитал все четыре сотни государственных обязательств, покупаемых и продаваемых сберкассами, — золотой заем, как говорят в народе, шесть или восемь тиражей в год, выигрыши, не облагаемые налогом, и хотя тот же народ знает, что тайна вкладов отнюдь не обеспечивается, что иметь под государственным оком крупные деньги всегда опасно, что… И тем не менее покупает облигации народ, при нужде обменивая их на деньги. Однако ж публика похитрее и побогаче облигации прячет под половицами, на чердаке, в зарытом бидоне. Фрезеровщик Синицын — явно не из этой публики, а из той голытьбы, что сейчас гомонит в зале. Для сельского милиционера же — и червонец у пастуха уже покушение на общенародную собственность, к городу Ропня питает стойкую неприязнь, крестьянская душа его каждого горожанина подозревает в обдирании сельских тружеников, вот почему так гордится трофеем калашинский сыщик.
— Докладывал кому?
— Так точно! Следователю!
— И?…
— Сказал, что знать ничего не знает и знать не желает. А облигации сдать как бесхозное имущество. Дело, сказал, закрыто за отсутствием состава преступления. Незаконно, мол, все.
Что верно, то верно. Никакого юридического значения эти сто тысяч облигациями не имеют, прокурор города может проглотить факт незаконной выемки, а может и разораться, должностное преступление все-таки, и назревает вопрос: что делать с этой коробкой из-под дамских ботиков, какому сейфу доверить?… А уже слышен концерт, современная трактовка племенного схода, хор уверяет вождя во всесторонней поддержке его, отдельные воины-солисты поносят обитателей высокогорных пастбищ и нечисть в болотных низинах. Далеко шагнула древнегреческая трагедия, о которой слыхом не слыхивал младший лейтенант Илья Ропня. Доклад его был краток и маловразумителен. Обыска как такового в комнате Синицыных не производилось, за здравие начал милиционер. Была устроена засада, Варвару взяли полупьяной в шесть вечера, подкатила к дому на такси, на предложение Ропни отдать ключ ответила отказом, тогда-то и пришлось обыскать ее на предмет обнаружения, каковой ключ и был найден.
— Где? В кармане? В сумке?
Ропня молчал: голова низко опущена, наволочка с коробкой по-прежнему в руке, — начинал осознавать, что сто тысяч — это
![Нора [сборник] - Анатолий Алексеевич Азольский](https://cdn.my-library.info/books/353122/353122.jpg)